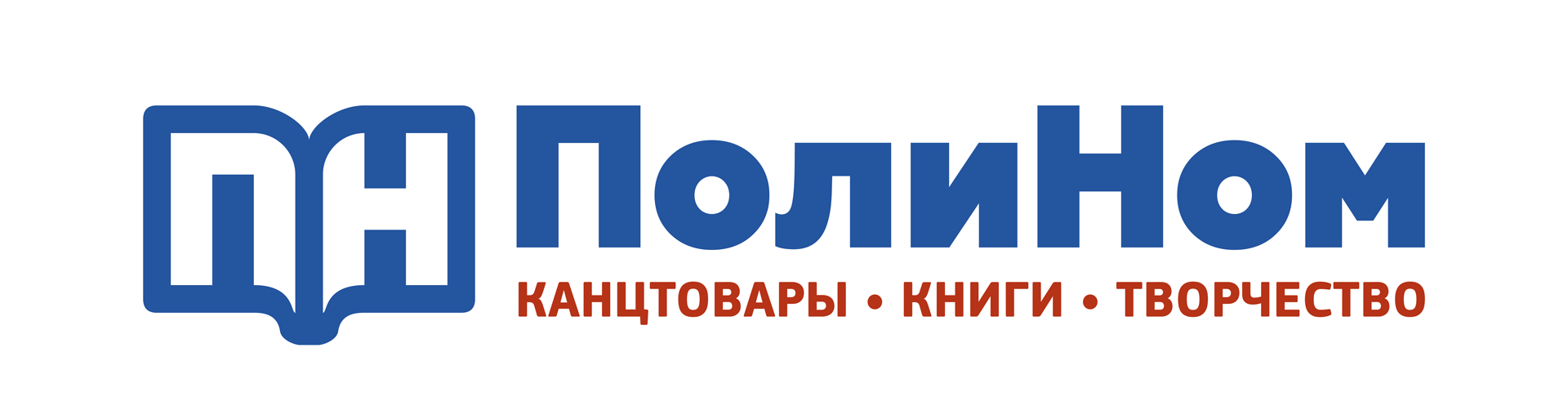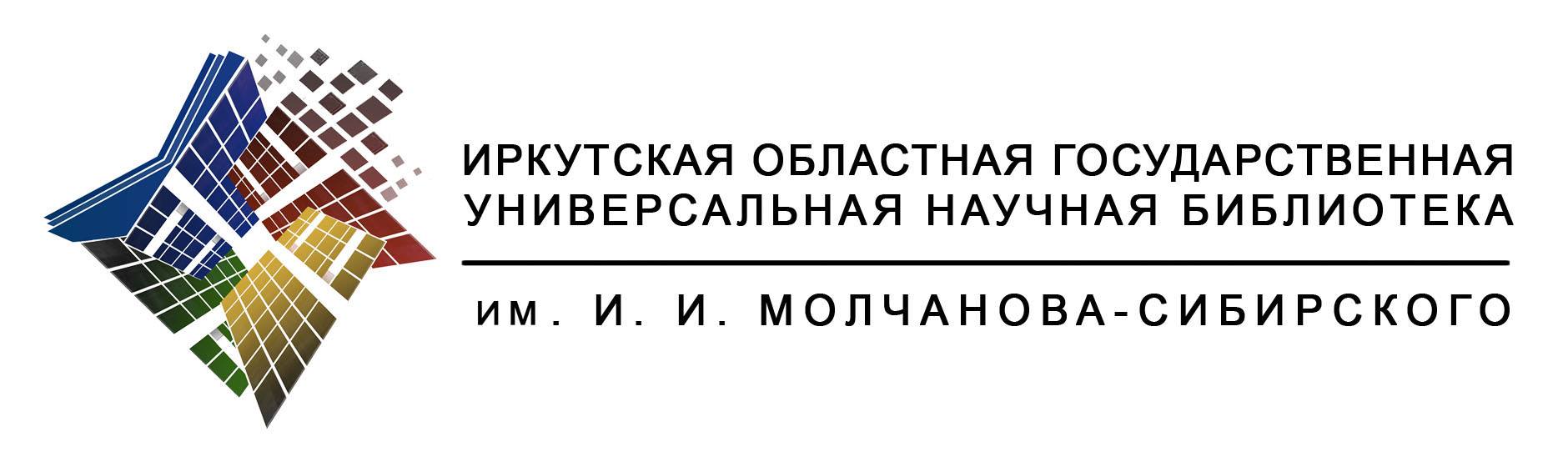Александр Пакеев - автор рассказа «Грехи», занявшего третье место в номинации «Триллер» (мистика) III литературного конкурса «Новая проза». Лауреат двух предыдущих конкурсов в номинации «Детектив» (политический, криминальный). По образованию историк, социолог, много лет работал в сфере образования на руководящих постах. Кандидат экономических наук. Известен читателям как автор сатирического романа «Халютинские истории», повести «С печалью смерти» и сборника детективов «За окнами ночного Улан-Удэ». Печатается в журнале «Байкал», республиканских газетах.
Александр Пакеев - автор рассказа «Грехи», занявшего третье место в номинации «Триллер» (мистика) III литературного конкурса «Новая проза». Лауреат двух предыдущих конкурсов в номинации «Детектив» (политический, криминальный). По образованию историк, социолог, много лет работал в сфере образования на руководящих постах. Кандидат экономических наук. Известен читателям как автор сатирического романа «Халютинские истории», повести «С печалью смерти» и сборника детективов «За окнами ночного Улан-Удэ». Печатается в журнале «Байкал», республиканских газетах.
Грехи
Улан-Удэ девяносто четвертого года двадцатого века. Капиталистическое переустройство вступило в стадию вакханалии. В самой извращенной ее форме. Славно поработали реформаторы. До хрипоты истерили о процветании Отчизны. А вышло в угоду своих амбиций и просто мошенничества. У них все получилось. Они несказанно разбогатели, а люди, которых оказалось гораздо больше, погрязли в безнадеге.
...Согбенный старик с тросточкой подковылял к уличной торговке, бабке чуть помоложе его, но еще ядреной.
– Здравие, Семеновна, не одолжишь пару огурчиков до пенсии? – хрипучим смиренным голосом произнес он. – Ты же знаешь – пенсия послезавтра.
– Дам, конечно, не помирать же с голоду, – сердобольная старушенция подала ему два небольших пупырчатых огурца и попросила: – Только после пенсии сразу занесите деньги. А то знаете, Владимир Шараевич, сама живу не ахти.
– Все понимаю, Семеновна. Благодарю тебя, – учтиво склонил голову старик, подрагивающей рукой взял огурцы.
– Знакомый? – кивнула в сторону уходящего неуверенной походкой старика соседка по торговле, тоже разложившая свой нехитрый товар на ящике из-под бутылок.
– Да. Я работала в обкоме партии уборщицей, а он был большим человеком – секретарем, – старушка подернула подбородком вверх, указывая на высоту его должности, затем чмокнула и с сожалением молвила: – А теперь вот взаймы огурчики просит. Вон жизнь-то как повернулась.
...Революция пришла в улус, нет – ворвалась с большим шумом, гамом. В лице Золы, бедняка-улусника, который уехал в какой-то город еще лет пять назад. Сейчас он вернулся на скрипучей повозке в селение с тремя русскими мужиками. Въехали они с громким гиканьем и песнями. Резко остановили лошадь возле неказистого обветшалого дома Шарая, которого Зола считал лучшим своим другом.
Жил Шарай, скорее мыкался, перебиваясь случайными заработками. Скота, огорода у него отродясь не было. Подрабатывал у местных зажиточных улусников. Несколько лет кряду подряжался к старателям в артель, уезжал в сторону Качуга, в тайгу. Поработает до глубокой осени - возвращается домой. При деньжатах. Но по пути остановится в одном месте, другом, сыграет в карты, выпьет, поваландается с какой-нибудь бабенкой. И последним пристанищем, где он напрочь спускал деньги, было Черемхово, это почти у родных мест. Приезжал домой с пустыми карманами. Жена, хоть и не рада была его таким заработкам, тем не менее не роптала, тихо собирала скудное съестное на щербатый стол – благо живой вернулся. Шарай осенью снова нанимался к богатеям батраком. Так и жила его семья... Детей рожали через полтора-два года, но выжил один. Шарай назвал его в честь друга по прииску – Володька. Друг-иркутянин несколько раз попадал в разные передряги, где была верная погибель, но выживал. Потому и решил он наречь своего сына его именем. Может, думал Шарай, хоть он будет живучим, а то все предыдущие детки уходили еще в младенчестве от разной хвори.
Зола с друганами приехали не пустые. Мужики вывалили на стол кучу продуктов, бутыли с мутным самогоном. После принятия третьего бутыля самогона захмелевший Зола, покачивая указательным заскорузлым пальцем, прочамкал:
– Шарай, прямо скажу: мы приехали устанавливать новую власть. Нашенскую, народную.
И пошло-поехало. Шарай без всяких уговоров принял предложение друга, смекнув скудным своим умом, что пришло его время. С головой окунулся в борьбу за новую власть. Борьба оказалась непростой. Порою беспощадной. Но он так уверовал в ее правоту, что даже перестал замечать, как делает людям больно. Грубость, жестокость стали обычным состоянием его натуры. Образом жизни. Без всяких колебаний загонял одноулусников, коих именовали кулаками и подкулачниками, на сани, которые их увозили на станцию Зима, а оттуда паровозом – в Красноярский край.
Однажды вышел случай, о нем долго помнили в улусе. В один из октябрьских дней собрали очередных раскулаченных на станции, и в телеге не хватило места для жены кулака. Потому оставили ее с грудным ребенком до завтрашней подводы. Шарай верхом на лошади, покрикивая, пригнал женщину с ребенком к амбару.
– Шарай, – обратилась к нему женщина. – Сынишка еще вчера прихворал, может, мы заночуем в нашем доме, ведь он пустует.
– Ишь, чего удумала?! Кулаки – народ живучий, и отродье вашенское такое, – гнилостным запахом изо рта пыхнул колхозный активист. Вытянул из носоглотки соплю, проглотил и буркнул: – Ничего, обойдетесь амбаром.
Запер амбар на замок и пригрозил:
– И не вздумай кликнуть кого-нибудь. Приду прибью. Хотя кто тебя услышит?!
***
Березовые рощи давно облысели. От зеленой травы осталась уродливо скрюченная жухлость. Ветхий бревенчатый колхозный амбар, стоявший одиноко на пустыре, насквозь продувался стылым северным ветром. Наступила ночь. Простуженный грудничок исходил жаром. Мать распахнула дэгэл из овчины, прижала к себе сына, укутала, примостилась в углу и заснула.
Шарай с приспешниками подъехал к амбару ближе к полудню. Открыл амбар. В углу на земляном полу сидела женщина, в завернутом дэгэле укачивала ребенка. Она была без шапки, поседевшие за ночь волосы разлохматились на плечах. Уткнулась лицом в свернутый дэгэл и едва слышно пела протяжную колыбельную песню. Шарай кашлянул, извещая о приходе. Женщина нехотя подняла голову и взглянула на него. Трогательная нежность, которую только что излучали глаза, мгновенно сменилась лютой ненавистью. Шарай невольно вздрогнул от взгляда. Женщина отложила в сторону дэгэл с ребенком и с воплем кинулась на Шарая. Сбила его с ног и вонзила ногти в физиономию. Если бы не помощники, которые оттащили ее в сторону, она точно изуродовала бы его лицо. Женщина с криком отшвырнула от себя приспешников, шагнула к сыну, взяла его на руки. Растрепанные седые волосы, белесые следы от высохших слез на щеках, непонятные причитания и безумные глаза наводили ужас на окружающих. Они боялись к ней приблизиться.
В полдень подъехала подвода и увезла болезную в аймачную психиатрическую лечебницу. Ей дозволили взять с собой покойного ребенка, которого она крепко прижимала к себе и никому не хотела отдавать.
Пролетели годы. Сын Володька стал уже комсомольцем и так же как отец окунулся в пучину бурной жизни активиста. Отец ему с детства внушил, что они, бедняки, хозяева жизни, ее устроители. От их смелости, решительности зависит обустройство новой жизни в улусе, аймаке, стране. Отцовские внушения так въелись в его мозги, что иные мысли, пытавшиеся войти в голову, прочь отбрасывались, как никчемные и даже вредные.
Володька с азартом участвовал во всех партийных начинаниях. Зимой 1932 года создали отряд, который занимался поисками и арестами священнослужителей, рассеявшихся по аймаку после разгрома церквей и дацанов. Володька с большим желанием вступил в его ряды. Первым его заданием было найти ламу Аларского дацана. Его почитали во всей округе. Лама между тем ни от кого не прятался и тихо доживал свою долгую жизнь в родном улусе у брата.
Володька с двумя подручными подъехал на санях. Лама, ссутулившись и скрестив ноги, сидел на топчане. Перед ним на невысоком столике лежала стопка мантр. Неторопливо, прикрыв глаза, он перебирал сандаловые четки, покачивая головой, что-то нашептывал. Володька окриком заставил ламу отойти от религиозного действа. Лама не спеша открыл пожелтевшие глаза и негромко произнес:
– Что угодно, молодые люди?
– Мы из отряда особого назначения, за тобой приехали, собирайся, – решительно сказал Володька.
– Зачем?
– А затем, что ты – лама. Значит, враг советской власти. А с врагами у нас разговор короткий, – протер ладонью заслюнявившийся рот Володька.
– Какой из меня враг? – спокойно сказал лама. – Тем более возраст мой. Дайте дожить мне до конца здесь – осталось недолго.
– Хоть ты и дряхлый, но все же враг советской власти, – пробасил комсомолец. – Нам велено таких свезти в Черемхово, а там решат, что с вами делать. Поторопись!
Престарелый лама с укором взглянул слезящимися старческими глазами на Володьку и тихо молвил:
– Зря вы, молодые люди. Неправедно это. Всяк человек должен будет держать ответ за свои деяния. А если не он, то его потомство будет отвечать за него...
– Ты, святоша, брось свои вредные проповеди, – грубо прервал его воинствующий атеист и потребовал: – Быстро собирайся, а не то силу применим!
Лама сошел с топчана, начал готовиться в дорогу.
– Я вас не проклинаю, молодежь, – сказал он, усаживаясь в сани. – Вы сами себя прокляли.
За активную антирелигиозную работу Володьку хвалили на аймачном сходе безбожников. Наряду с атеистической борьбой Володька активно сражался с улусными богатеями. В итоге в улусе извели почти всех зажиточных. Почти – потому что осталась еще семья Балсуная. Не было у него никогда батраков, работал помногу, потому и жил более-менее справно. И была у него одна дочка-красавица, о которой мечтали многие молодые земляки. Воспитанная своим отцом, была она работящей и правильной девушкой. Многие юноши боялись даже подойти к ней, а кто решался это сделать, тактично отшивался. Понятно, среди отвергнутых были и те, которые обижались. Оказался среди них и Володька, сын Шарая. Но не был бы он сыном своего отца, если бы отступился.
Удумал Володька хитрую затею. Выступил на колхозном собрании и в страстной форме объявил Балсуная подкулачником, призвав немедленно выселить его из деревни. Это вызвало ропот у колхозников, потому что люди видели, что никакой он не подкулачник, а простой трудяга. Это и предвидел Володька. Потому и предложил «умягченный» вариант: выселить Балсуная с женой, а его дочь оставить в колхозе. Сказал таким тоном, что колхозники вынуждены были согласиться с комсомольским вожаком. Лишь один возражал до конца – Макар Евстигнеев, заместитель председателя колхоза. Два года назад он приехал в числе 25-тысячников-ленинградцев, которые были призваны помочь в деле переустройства сельского хозяйства. За время коллективизации Володька поднаторел в умении воздействовать на мозги сельчан. И, таким образом, осталась дочка Балсуная одна в избе.
Однажды вечером, когда над домами улуса закурились трубы, к дочке Балсуная притащился пьяный Володька. Стал приставать к ней с гнусными предложениями. Но получил серьезный, уже далеко не тактичный отлуп. Это взбеленило пьяного, и он ударил ее поленом по голове. Девушка потеряла сознание, чем воспользовался активист. Совершил распутство и удалился довольный восвояси. Утром ее нашли повесившейся в сарае.
И опять единственным, кто не поверил в истинную причину самоубийства красавицы, был Евстигнеев. После похорон он вызвал в контору Володьку и сказал все, что о нем думает. Обвинил его в чрезмерной активности в деле коллективизации и личной ответственности в смерти девушки.
– Такие, как ты, подрывают веру в советскую власть! Превратили революцию в кормушку! Но я выведу тебя на чистую воду! – кричал он, сотрясая кулаком.
«Я сам тебя выведу», – с мыслью полного озлобления выходил из конторы Володька.
Через день за Евстигнеевым приехала телега с тремя вооруженными людьми.
– Что же вы делаете? – натужно обращался он к рядом усаживающимся чекистам. – Те, кто написал на меня, – это же враги советской власти, они же, сволочи, погубят ее!
Комсомолец Володька, стоявший за углом и слышавший разговор, сплюнул бычок от самокрутки на землю и быстро удалился прочь.
***
После укрепления колхоза в родной Алари направили Володьку, теперь уже Владимира Шараевича, как одного из молодых перспективных активистов, в далекую Закамну. На новом месте он стал председателем колхоза. К обязанностям приступил рьяно. Так рьяно, что недовольные начали массовый забой скота, а часть колхозников бежала в лес, горы, образуя вооруженные группы. Однажды одна из них изловила председателя и двух его активистов при выезде из аймачного центра. Но красноречия Владимира Шараевича хватило убедить вооруженных, что им простят прегрешения в случае добровольного отказа от борьбы. Восставшие сдали оружие, но председатель стал первым расстреливать из маузера доверчивых крестьян.
– Ты же обещал прощение! – еще не веря вероломству, обратился к председателю вожак, который принял роковое решение о сдаче оружия.
Владимир Шараевич, забивая его до смерти плетеным кнутом, зло выдавил:
– Обещать – это не значит выполнить!
Эту расправу над несчастными молодой председатель изобразил как жесткое подавление восстания. Начальство стало ставить его в пример и перед войной перевело на повышение в Улан-Удэ в обком партии. К тому времени у него народилось трое детей: две девочки и один мальчик. Вскоре началась война. Ему, заведующему отделом обкома партии, дали броню. Он ее не просил, но и особо-то на войну не рвался.
После войны Владимира Шараевича вновь отправили в Закамну на усиление аймака. Новый секретарь айкома партии ретиво взялся за дело. Работал неистово, практически на износ. Семья почти не видела своего главу. Рано утром уходил и поздно вечером приходил. Лишь один раз пришел домой пораньше, переоделся и срочно выехал в Улан-Удэ. Это был вызов в обком по поводу сына. Тут он узнал, что его сын, студент третьего курса московского мединститута, изобличен в связях с антисоветскими врачами-отравителями. Владимир Шараевич был уже наслышан о «деле врачей», которые пытались уничтожить видных советских и партийных деятелей.
– Но каким боком здесь мой сын? – спрашивал он у секретаря обкома. – Ведь в деле фигурируют известные медики, а он студент-сопляк?!
– Это я должен у тебя спросить, каким таким боком ты воспитал сына-антисоветчика?! – грозно вопил начальник. – Будешь отвечать на бюро! А пока езжай домой и готовься к серьезному разговору!
После разноса у секретаря обкома Владимир Шараевич вышел с жалким видом побитой собаки. «Наверное, меня снимут», – мрачные мысли одолевали его.
Вскоре пришло письмо от сына, где он писал, что с научным руководителем курсовой работы профессором Эйдельманом у него кроме учебных отношений ничего не было. А обвинения – это чистой воды клевета. И теперь он живет на вокзале и вообще не видит смысла жить.
– М-да, очернить человека, – в задумчивости произнес Владимир Шараевич, обращаясь к жене, – ничего не стоит.
После этого письма беспокойство вселилось в их дом. Как водится в таких случаях, пуще всех переживала мать. Однажды утром хозяин дома, перекусив, собрался на работу, как жена его приостановила за рукав и, смотря в пол, робко сказала:
– Отец, я сегодня видела сон, что с нашим сыном беда.
– Будет тебе каркать! – гневно бросил муж. – Вечно вы, бабье, плетете всякую ерунду! И вообще мне некогда – работы у меня навалом!
Жена такого ответа и ожидала и все же решилась обмолвиться о недобром сне. Материнское сердце ныло от боли. Она не находила себе места. Спала урывками, и в этих урывках ей виделись кошмары, от которых голова шла кругом и щемило сердце.
Через некоторое время родители получили горестное известие о самоубийстве сына. А еще через месяц узнали о смерти Сталина, а вскоре – о прекращении «дела врачей» и освобождении профессора Эйдельмана.
Уход сына мать не смогла пережить. Прошло полгода, и сердце ее остановилось во сне.
Переживал и Владимир Шараевич. Он возлагал на сына большие надежды. Теперь стал немногословен, лоб пробороздила первая морщина, виски тронул белый иней. А намедни ни с того ни с сего в голове вспыхнул, как будто это было вчера, случай с арестом Евстигнеева. «Тьфу, вспомнится ведь, гадость!» – сплюнул он, изгоняя из головы нежелательное былое.
1953 год. Началась большая послесталинская амнистия. На свободу вышли тысячи заключенных. Много зеков покинули камеры Джидлага. Местные жители, особенно Городка, наглухо закрывали окна, тщательно запирали двери, дворы, спускали с цепей собак, снимали недосохшее белье... По Городку по одному, по двое-трое и большими группами бродили освободившиеся зеки. Жители боялись лишний раз появляться на улице. Старались ходить тоже группами. Мало ли чего...
Страшная весть застала секретаря айкома на партийном собрании Джидакомбината. Ему в президиум отправили записку. Он засунул ее в карман голифе, решив, что прочитает после мероприятия. Едва собрание завершилось, Владимир Шараевич достал записку и стал читать. Затем медленно отвел бумагу в сторону, потом вновь поднес к глазам. Сжал листок в комок, лицо мертвецки побледнело, губы мелко задрожали и он, как ему показалось, крикнул, а на самом деле выдавил полушепотом, который едва расслышал парторг комбината, стоявший рядом:
– Срочно машину мне.
Парторг уже зычным голосом крикнул:
– Срочно машину Владимира Шараевича!
Случилось непоправимое: в сквере Городка нашли дочь секретаря в изодранном платье, без обуви. Она была изнасилована и задушена. Нашли зеков, которые это сделали. Владимир Шараевич специально поехал в отдел милиции, чтобы глянуть нелюдям в глаза. Думал, войдет и сразу порвет иродов на куски. Но случилось неведомое. Пока поднимался по крыльцу отдела, ноги вдруг подкосились и стали ватными; руки начала сводить болезненная судорога. Решительность, с которой он ехал сюда, куда-то разом исчезла. И тут в полумраке коридора до него дошло, откуда взялась эта неизъяснимая слабость, судорога. В дальнем углу коридора висела сумрачная лампочка. Она под дуновением сквозняка плавно раскачивалась туда-сюда. И когда приближалась в его сторону, казалось, что раскачивается не тусклая лампочка, а на веревке наложившая на себя руки дочка Балсуная. От нахлынувших нежеланных воспоминаний секретарю стало дурно, и он машинально прислонился к стене, чтобы не упасть. В кабинет уже вошел неспешно. Насильники стояли с завязанными руками у шершавой стены. Посмотрел на них исподлобья, молча развернулся и вышел. Голова опухла от произошедшего. В воспаленном мозгу калейдоскопом мерцали картины прошлого. Он с силой надавил пальцами на виски, чтобы как-то приглушить невыносимые боли.
Пришел домой сам не свой. Бледное лицо, опущенные плечи, полные печали глаза вызвали явное беспокойство младшей дочери, которая находилась дома с племянником – сыном сестры.
– Что с тобой, папа? – спросила она, стягивая с отца пыльные сапоги.
Владимир Шараевич ничего не ответил, лишь приобнял внука, радостно подбежавшего к деду и прильнувшего к его коленям.
По округе о младшей дочери секретаря шла молва, что она со странностями. Будто видит наяву давно ушедших из жизни людей. Это вызывало раздражение у Владимира Шараевича. Будучи до мозга костей коммунистом, он напрочь отбрасывал эти разговоры как нелепые. Сама дочь рассказывала о своих видениях людям, но обмолвиться об этом родителю жутко боялась. Она знала, что отец никогда не поверит и будет страшно гневаться.
На поминках старшей дочери Владимира Шараевича народу собралось много. Просторный дом секретаря едва вместил пришедших. Поминки уже шли к концу, когда младшая дочь дернула отца за рукав и спросила:
– Пап, а это кто такая?
– Ты про кого? – буркнул отец.
– Ну вот та, что сейчас только зашла с ребенком на руках?
– Где?
– Да вот она идет к нам, – дочь кивком показала на проход, ведущий к их столу.
– Брось всякую чушь нести! – раздраженно сказал отец и сердито бросил: – Все уже заканчивается, иди к себе, отдохни!
Дочь молча встала и вышла из зала.
Поминки вскоре закончились. Народ уже разошелся. Владимир Шараевич хотел было прилечь, как вдруг в дом влетел его шофер и, тыча пальцем в распахнутую дверь, забормотал:
– Там, там...
– Говори толком, что там? – насупил лохматые брови секретарь.
– Сами посмотрите, – с ошалевшими от испуга глазами произнес водитель, все так же показывая в сторону двери.
Владимир Шараевич размеренным шагом вышел на крыльцо. На скамейке возле дома сидела его младшая дочь и покачивала завернутую в платок большую куклу, которую он подарил ей на день рождения, и напевала колыбельную песню. Отец в мгновение ока оказался возле дочери. Он прихватил ее за плечи и несильно потряс.
– Что с тобой, дочка? – руки ходили ходуном, голос потерялся, и потому он еле слышно шептал: – Да что же это такое? За что мне такое?
...Конец коммунистической эпохи. Многим казалось, что приходят лучшие времена. Но не тут-то было. Разруха, безработица, голод, преступность, нищета, вооруженные конфликты... Социализм, капитализм... Где лучше? После лихого начала реформ многим захотелось обратно в социализм. Но, как говорится, поезд ушел. И осталась основная масса народа у разбитого корыта. Но человек на то и человек, что пытается выживать в любых условиях. Другими словами, корыто надо чинить. Учителя стали челноками, врачи – торгашами, инженеры – бомбилами. А иные сознательно или в силу обстоятельств вышли на большую дорогу... Среди последних оказался и единственный внук Владимира Шараевича – Архип, бывший бобылем и проживавший с дедом.
Архип, за плечами которого был московский вуз, работа главным энергетиком завода, после банкротства предприятия оказался не у дел. Жил на пенсию деда, чем он очень тяготился. Больше из-за того, что дед постоянно нудил по этому поводу. И однажды подвернулся случай подзаработать. На своем «жигуленке» Архип помог знакомому доставить партию конопли в Иркутск. Получил неплохие деньги. Понравилось. Вошел во вкус. Закрутилось. В итоге он получил признание и авторитет в криминальном мире. Сперва дед не мог понять, откуда у внука такие деньги: купил новую иномарку, дома заменил мебель, обновил свой гардероб, еды вдоволь. Потом стал догадываться и однажды спросил в лоб у внука:
– Архипушка, я хоть и древний, но понимаю, откуда у тебя деньги. Зря это ты, ведь сколько веревочка ни вьется, у нее всегда есть конец.
– Дед, – ответил ему внук, – ты прожил жизнь так, как хотел. Я тоже того хочу. Так что, дед, живу как могу.
– Ну неправильно это, – противился старик. – Надо будет все равно отвечать за содеянное.
– Дед, хочешь, честно скажу? – не выдержал Архип.
– Чего уж, говори, – нахмурил седые лохматые брови предок.
– Ты же в свое время шел по головам и дошел аж до секретаря обкома! А почему мне запрещаешь? Может, я тоже хочу достичь таких высот.
– Но то было другое время, – вжал впалую грудь дед.
– В том-то и дело – другое время, – хлопнул по коленям внук. – И теперь тоже времена иные. Изменилась жизнь. Надо приспосабливаться. Так что извини, дед. Буду жить, как диктует время и мое чутье на нее.
Старик озадаченно почесал седой затылок.
– Да ты не расстраивайся. Все будет путем, – Архип успокаивающе похлопал по плечу предка. – Так, конечно, нельзя говорить, но если ты того, – внук кивнул на потолок, – то не боись, организую достойные похороны, поставлю мраморный памятник с бюстом. А гроб будет из красного дерева, с витыми ручками.
Старик молча покачал головой.
У Владимира Шараевича с некоторых пор исподволь в голове прокручивалась прожитая жизнь. И вот сегодняшний разговор с внуком, когда тот сказал, что он шел по головам, особенно угнетал его. Ночью, лежа в постели, он долго думал о том разговоре. Заснул далеко за полночь. И во сне ему привиделось причудливое строение с крышей с приподнятыми вверх углами. Проснувшись, он начал вспоминать сон, и вдруг его осенило: «Так это же дацан!» Быстро позавтракал и поспешил к автобусной остановке.
Приехал в Иволгинский дацан, когда завершился сахюусан хурал (каждодневный утренний молебен). Зашел в первый попавшийся дом, где вел прием лама. Терпеливо дождался своей очереди и с явным беспокойством вошел в комнату, где за столиком сидел молодой лама. Робко присел на потертый стул. После ответа на приветствие лама спросил:
– По какому вопросу пришли?
Посетитель, никогда не бывавший в дацане, замешкался. Ему показалось, что лама на глазах меняет облик: из молодого превращается в старого. Он закрыл глаза, встряхнул седую голову и посмотрел на ламу. Перед ним сидел ссутулившийся, с пергаментным изможденным лицом священнослужитель. Владимир Шараевич вздрогнул, опять встряхнул головой. Но образ не исчезал. Находясь в прострации, судорожно вдохнул и выдохнул, молча встал и поковылял к выходу. Когда уже сидел в автобусе, ему припомнился этот образ. То был престарелый лама, над которым он когда-то изголялся и в итоге отправил по этапу. Поговаривали, что он там и сгинул.
День был солнечный, без единого облака. В зеленом сквере, через который шел Владимир Шараевич, беззаботно щебетали птички, на качелях со смехом раскачивались дети, фонтан, хоть и был полуразвалившийся, но исторгал искристые веселые струйки. Но ничего не замечал старик. Перед его глазами стоял только образ престарелого ламы. С этим видением он незаметно подошел к своему дому. И лишь здесь очнулся. У подъезда стояли люди и милицейская машина.
– Что произошло? – спросил он соседа, стоявшего с краю.
Мужчина кивнул в сторону толпы и тихо сказал:
– Пройдите, посмотрите.
Холодок пробежал по одряхлевшему телу. Владимир Шараевич прошел через расступившуюся толпу. Возле крыльца в луже крови распростерлось бездыханное тело Архипа. Старик оттолкнул преградившему ему путь милиционера, подошел к внуку, упал на колени, обнял его за голову. Всхлипывая, забормотал:
– Это все за мои грехи...
После похорон к Владимиру Шараевичу пришли люди в малиновых пиджаках, предъявили какие-то бумаги о том, что Архип задолжал им круглую сумму. Потом было выселение его из просторной квартиры в тесную «хрущевку» с убогой мебелью и стареньким черно-белым телевизором.